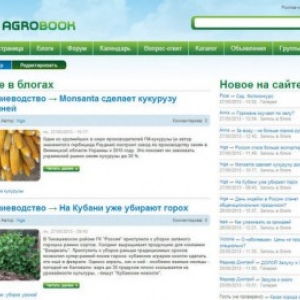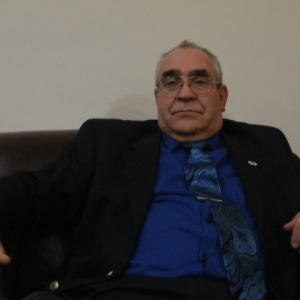Сельское хозяйство в России. Время Бендеров, а не Штольцев
Куда ведёт Россию латиноамериканский путь развития сельского хозяйства
 Крестьянство не верит ни в кооперацию, ни в местное самоуправление. Но именно они являются условиями для возрождения российской деревни, считают специалисты. Что делать, чтобы селяне вновь обрели веру в солидарность и в собственные силы? Каковы особенности и парадоксы южно-российского аграрного комплекса? Является ли кущёвская трагедия сугубо региональным феноменом? Об этом в беседе с корреспондентом «Крестьянина» размышляет директор Центра аграрных исследований Академии народного хозяйства и государственной службы Александр НИКУЛИН.
Крестьянство не верит ни в кооперацию, ни в местное самоуправление. Но именно они являются условиями для возрождения российской деревни, считают специалисты. Что делать, чтобы селяне вновь обрели веру в солидарность и в собственные силы? Каковы особенности и парадоксы южно-российского аграрного комплекса? Является ли кущёвская трагедия сугубо региональным феноменом? Об этом в беседе с корреспондентом «Крестьянина» размышляет директор Центра аграрных исследований Академии народного хозяйства и государственной службы Александр НИКУЛИН.
– Александр Михайлович, вы долгое время отслеживали, как реформировались после развала СССР южно-российские колхозы, прежде всего кубанские. Какие закономерности удалось выявить? Южно-российский путь имеет свои особенности?
– Большие и богатые колхозы Кубани в середине 1990-х оказались в кризисе. Край долго искал пути трансформации своего сельского хозяйства, поддерживались разные экономические формы, фермерство к примеру. Но сельское хозяйство стало по-настоящему прибыльным только после дефолта 1998 года. Этим сразу воспользовались те, у кого были свободные финансовые ресурсы – местные элиты и руководители колхозов, а потом сырьевой и банковский капитал федерального уровня. В 2000-е годы волна рейдерских захватов накрыла не только Кубань, но и другие регионы.
Фермерство же с конца 1990-х годов оказалось «падчерицей» государства. Власть пеняет фермерам: вот, мол, в девяностые годы мы сильно потратились на ваше становление, а адекватной отдачи не получили. Так что сейчас делается ставка на крупные холдинги.
– При этом ещё и ЛПХ вымирают понемногу…
– Это правда. Тут дело вот в чём. Советская колхозная система последних десятилетий была очень хитро устроена с точки зрения неформальной экономики. Работники получали маленькую зарплату, но зато имели полулегальную возможность взять что-то из колхоза для ЛПХ. Люди уходили домой не с пустыми руками – с мешком комбикорма, банкой молока, канистрой бензина... То есть ЛПХ фактически поддерживались колхозом. А сейчас так называемого «эффективного» собственника селяне интересуют только как наёмная сила. ЛПХ для них – конкурент, отнимающий время и силы рабочего.
Вообще, искусство аграрной политики – это умение сочетать разные сельхозуклады, крупные и малые. А у нас они часто противостоят друг другу по принципу «выживает сильнейший».
– Но ведь обычно считается, что крупные хозяйства эффективнее. Есть ли здесь какой-то баланс?
– Сельское хозяйство во всём мире подконтрольно крупному бизнесу. Но есть принципиальная особенность. В США, Европе, Канаде и Австралии фермер опутан договорами, в которых чётко прописаны условия его работы. Но земля, имущество, техника всё же принадлежат ему. Мы же пошли по пути стран Латинской Америки. Это значит – латифундии и новые аграрные «бароны». Они владеют имуществом и землёй, используя наёмный труд, подчиняя себе местную власть.
Баланс крупного и мелкого бизнеса всегда желателен. Есть так называемые сельскохозяйственные оптимумы, их теорию разработал наш замечательный учёный А.В. Чаянов. Он утверждал следующее: существуют аграрные отрасли, в которых крупное производство имеет преимущества и действительно вытесняет мелкое. Это, например, растениеводство. Собственно, юг России всегда славился зерновыми колхозами-гигантами.
Но есть и другие сферы, требующие ручного, фермерского труда. Я был недавно в Белгородской области, там развиваются высокоэффективные агрохолдинги и тоже высвобождается рабочая сила. Но местные власти настойчиво поддерживают фермерские хозяйства, ЛПХ, кооперативы. Вся Белгородчина покрыта сетью молочных кооперативов. Пчеловодство – также перспективный вариант для семейного хозяйства. Глава одного агрохолдинга жаловался мне, что, дескать, нет ему покоя — не может собрать упрямых пчеловодов и их пчёл в одно большое предприятие... Прудовое разведение рыбы, семейное грибоводство – это всё выгодный фермерский бизнес.
Вспомнить о солидарности
– Кооперация – это своеобразная «вечная» тема для наших аграриев. Что нужно делать, чтобы этот важнейший механизм наконец заработал?
– Когда кооперация не развивается, обычно говорят: население пассивно, кооперативный молзавод проигрывает крупному частному или тому же перекупщику, потому что неповоротлив и сложно устроен. Это типичная критика кооператива, и она справедлива. Что можно сказать в ответ? Прежде всего нужно терпение. В советское время кооперация была принудительной, подконтрольной государству. А после развала СССР люди вообще перестали верить в солидарность, разучились объединяться. Я часто вспоминаю слова старого революционера и анархиста Петра Кропоткина, сказанные им Ленину: «Строй, который вы создали, неэффективен. Он развалится через несколько поколений. И люди, выбираясь из-под его обломков, будут страшные индивидуалисты. Вместо кооперации вы получите дикий капитализм индивидуалистов». Предсказание Кропоткина сбылось.
На Западе кооперативы вовсю работают – молочные, кредитные, потребительские. Но и там всё получилось не сразу. Более ста лет назад в России уже были активисты, развивавшие идеи кооперации. Это заняло жизнь почти двух поколений – но в результате к началу Первой мировой войны Россия покрылась сетью кооперативов.
А мы сегодня живём одним днём. Нужна активная господдержка – специальные программы развития совместного производства, переработки. Через несколько лет, сработавшись, кооперативы могут выйти на самоокупаемость.
– Если обратиться к западному опыту — что ещё, кроме кооперации, нужно для развития аграрного сектора?
– Реальное местное самоуправление. Формально оно у нас есть: действует Федеральный закон № 131. Но его положения воспринимаются как декорация. Селяне говорят: «Муниципальный чиновник – он как государственный, только хуже, имеет меньше прав». Чтобы селяне доверяли местной власти, нужна элементарная вещь – возможность контролировать пополнение и распределение местного бюджета. А он на 70-90% зависит от региональных вливаний. Поселение зависит от района, район от области, та от Москвы – односторонняя вертикаль.
Есть и другое. В конце 1990-х лидер «Яблока» Григорий Явлинский написал письмо кубанскому крестьянству – с вопросом о его нуждах и чаяниях. Пришло около семи тысяч писем с ответами — мы, социологи, их анализировали. Люди, как правило, отвечали на те вопросы, которые были им интересны. И меня поразило, что на вопрос о местном самоуправлении селянам было совершенно неинтересно отвечать. А некоторые вообще путали понятия: «Вы спрашиваете про самоуправство, нам его не надо». И писали, что теперь, когда центральная власть ослабла, местные управленцы порой самодурствуют как помещики. Просили государство навести порядок.
Ещё один кирпич, на котором строится благополучие современной деревни, – это бытовая самоорганизация селян, культурная, скажем, или хозяйственная. С ней у нас тоже плохо. А ведь сообща люди могли бы отбивать рейдерские захваты своих земельных участков, вести правовую работу, даже решать вопросы ЖКХ – прокладывая общие коммуникации... На юге России люди пытаются объединяться на основе традиционного уклада, пример тому – казачество. Но это скорее декоративные опыты.
Стабильно развивается у нас такая форма стихийной самоорганизации, как «оружие слабых». Во все времена крестьянство терпело тяготы в обмен на некоторые гарантии со стороны власти. Но сейчас, не имея возможности открыто влиять на ситуацию, выразить недовольство, люди ведут против власти скрытое сопротивление. Распускают слухи, исподтишка пакостят, игнорируют призывы… Но, конечно, надо совсем уж довести крестьян до ручки, чтобы возник тот самый русский бунт, «бессмысленный и беспощадный».
– Можно ли как-то изменить эту ситуацию? Поменять 131-й закон, например?
– Меня всегда поражало в исследованиях то, что ни один хутор или станица не похожи друг на друга по социальному составу, традициям… Очень важно сейчас отслеживать любые ростки самоорганизации снизу и поддерживать их, развивать. У нас всё-таки осталась тяга к солидарности – но это солидарность родственников, друзей, сослуживцев, соседей. Она неформальна, почти невидима. Как перенести эти связи в легальную экономику, реальную политическую жизнь – вот над чем стоит работать.
Вольнолюбие и покорность
– Южно-российское крестьянство имеет свою специфику? Трагедия в Кущёвской, прогремевшая недавно на всю страну, это сугубо южный феномен или нет?
– Конечно, нет. Это симптом глубоко зашедших в тупик отношений власти и села. Признак движения по латиноамериканскому пути, приводящему к бесправию сельского населения.
Крестьянство бывает разное. Его можно разделить на южнороссийское, центрально-чернозёмное, нечернозёмное, северное, сибирское, поволжское… Южные крестьяне по сравнению с другими более активные, эмоциональные. Меньше пьют, больше работают. Более индивидуализированные, прижимистые, «капиталистические», что ли.
Но вот какой парадокс. С одной стороны, южане любят подчёркивать, что они потомки вольных казаков и т. д. А с другой стороны – в общественной жизни ведут себя покорно и боязливо. Я спрашивал у одного станичника: «Посмотрите, какие вы бесшабашные, независимые в быту. А когда речь заходит о власти – тише воды, ниже травы. Почему?» Он мне ответил: «Против нас такие страшные репрессии были направлены, так власть зверствовала во время коллективизации, голодомора, что людей запугали на сто лет вперёд».
– Смена поколений как-то меняет эту ситуацию? С одной стороны, в агробизнес приходят новые люди, деятельные, современные. С другой – дети фермеров говорят, что не хотят жить и работать в селе. Как быть с этими разнонаправленными тенденциями?
– Мы не одиноки – во всём мире сельское население уходит в города, молодёжь не хочет работать в селе. Этому драматическому процессу уже больше века. Японские фермеры не могут найти соотечественниц, желающих работать в деревне. Едут за жёнами на Филиппины. Немецкие фермеры женятся на полячках, на русских… Уже пара лет, как земной шар перешёл эту черту – число городских жителей впервые в истории превысило сельское население. Но деревенский образ жизни никуда не денется, он крайне важен для человечества. Тем более, что сельская жизнь сейчас более разнообразна – это уже не только труд «на земле». В Китае, например, в бывших сельских территориях активно развивается лёгкая промышленность, на Западе – сельский туризм.
В России все-таки формируется новый тип крестьянина, активного, знающего, независимого. Но этим современным сельским Штольцам, конечно, приходится нелегко. У нас в силе сейчас полубизнесмен-полубюрократ, любыми путями концентрирующий в руках собственность. В наше время Остап Бендер столицам Южной Америки наверняка бы предпочёл сельские просторы южной России. Здесь возможны сериалы похлеще аргентинских...